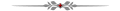Сухость. Чертова сухость. Первое, что я чувствовал. Открытие дня, и, пожалуй, он будет таким же паршивым, как его начало. Сухость... Мне в глотку словно насыпали песок, привезенный из самой Сахары и как следует утрамбовали. Что бы ты подавился, ублюдок рода человеческого. А вот и нет. Не дождетесь.
Кашляю, хрипло кашляю, с трудом отрывая голову от жесткой поверхности деревянного напольного покрытия, в ноздри забивается гипсовая пыль, пыль сухих красок, запах какой-то... то ли сырости, то ли свежей глины. Запах красок, такой родной и привычный. Ах да... Я так и уснул вчера здесь, в своей мастерской, не найдя в себе сил добраться до дома, подобно любому нормальному человеку. Нормальному человеку... Который приходит с работы домой, пожирает ужин, проводит остаток вечера перед инструментом зомбирования масс - телевизором, а потом относит свою бренную тушку в кроватку. Чтобы проснуться, пойти на работы, вернуться, поесть, промыть мозги, поспать, проснуться, поработать... От зари до зари.
А я уже на... работе. Если это можно так назвать.
Дрожащие пальцы шарят по шершавому полу, будто бледные пауки, осторожно ощупывающие своими лапками всё, что находится вокруг, высматривающие, вынюхивающие добычу. Добыча - пачка сигарет. Не то. Идём дальше.
Нащупываю ножку кофейного столика, заваленного кипой скетчей и набросков, приподнимаюсь, придерживаясь за край, фокусирую взгляд... Пальцы-пауки продолжают движение по столешнице, скидывая ворохи листов, опрокинув пепельницу, заполненную окурками, пепел поднимается серым облачком и оседает ровным слоем, ноздри чешутся от табачного запаха. Плевать.
Наконец, бутылка недопитой вчера минеральной воды. Она выдохлась уже, я не закрывал её крышкой. Она имела совершенно отвратительный вкус. Но её хватило, чтобы смыть песчаную пустыню, дерущую моё горло. Хватило, чтобы я поднялся, подобно воскресающему из горсти пепла фениксу... Хотя нет. Это слишком громкое сравнение. Я поднялся, как оживший мертвец из могилы, мифический вурдалак, скалящий кривые клыки на окружение реальности.
Лампочка опять барахлила. Моргающий, становящийся то светлее, то темнее свет озарял подвальное помещение, переделанное под мастерскую. Мой собственный маленький лимб. Стены выкрашены черной краской. Они были грязновато-белыми, когда я пришел сюда, и эти чертовы белые стены вызвали у меня припадок. Ненавижу белые стены. Если бы ненависть была материальным явлением, моей можно было бы дробить гранитные глыбы в пыль.
Черные стены увешаны картинами - на холстах без рамок, на обычных листах, больших и маленьких, эти клочья моей души могли вызвать головокружение, обилием своих образов, рожденных больным сознанием. Даже то, что не получилось - уроды, любимые уроды, они были все здесь. Слепо таращились, извиваясь масляно-разноцветными конечностями, они были похожи на мутировавших спрутов, захватывающих внимание в свои липкие щупальца.
И сейчас, на похмельную голову, меня раздражала она - Баньши. Белый призрак, растянувший в зверской улыбке оскаленную пасть, полную острых, акульих зубов. Она выходила со мной на диалог своим вызывающим взглядом огромных, выпуклых глаз на дрожащем, смазанном лице. Я был уверен - она смеется надо мной. Над тем, какой жалкой становится поутру жертва трех бутылок виски и пары доз кокаина. Баньши смотрела на меня с противоположной стены, скалилась этой своей ублюдочной улыбкой.
- Я тебе дал жизнь, сука!
Я её творец, а она смеется. В её алом шарфе, развевающимся в ветрах Бездны, небольшая рюмка крови, которая пахла персиковыми духами. Баньши зовут Табитой. Я до сих пор слышу её серебристый смех. Она. Смеется. Надо. Мной.
- Заткнис-с-сь...
Отвечаю на её смех змеиным шипением. Ни одно из моих детищ не смеет улыбаться, когда у меня так болит голова. Быстро подхожу к стене - откуда взялись силы? Дрожащей рукой срываю образ Баньши, оставляя на стене несколько клочков, обозначающих, что здесь была Она. Клянусь, я слышал дикий визг, когда разорвал холст. Мне было почти жаль её, но мерзкий смех прекратился. На мгновение упав в тишину, я вынырнул, откинув волосы назад и ухватив ртом глоток воздуха, пропитанного запахом красок, глины, алкоголя и сигарет. Музыкальный центр в углу выдает потрескивающее шуршание закончившегося диска.
Мне жаль. Жаль...
- Табита.
Слегка дрожа, поднимаю клочья, облизывая пересохшие губы. Чувствую приторный запах персиков. Никогда не любил персики. А на меня смотрит разорванный посередине глаз, и часть оскаленной улыбки.
Из тебя ничего не получилось. Не всем дано обрести бессмертие. Ты была дешевкой, Табита.
- Дешевка, - вслух повторил я, бросив разорванные клочья в угол.
Очередной день. Кажется, он всё же начался. Начался, как только я встал на ноги и принял облик человека, несколько отличный от облика скорчившейся на полу твари, поскуливающей от боли в голове и пустыни, забившей глотку.
Начался, когда задребезжала старая кофе-машина, наполняя мою чашку со сколом на кромке, порцией жидкого кофеина.
Начался, когда я отпил глоток кофе, затянулся сигаретой и почувствовал себя живым. И плевать было, что вне моего лимба время уже давно перевалило за полдень.
Стоя перед мольбертом, рисую черного фламинго. В голове вертятся слова Герцогини: Фламинго кусаются не хуже горчицы. А мораль такова - это птицы одного полёта.
Переставленный диск выдавал трек, из разряда тех, заслышав которые, культурные дамочки прикладывают запястье ко лбу и брезгливо морщат носики. А некультурные, одетые в черный латекс, под такое любят заниматься безудержным сексом. Рисование - тоже как секс. Если умеешь, то доставляет удовольствие. Небрежные мазки кисти вплетали в птичьи перья страдающие души, рвущиеся на свободу, и медленно перетекающие в ночное озеро.
Где-то в другом мире сигналили машины и шел дождь.